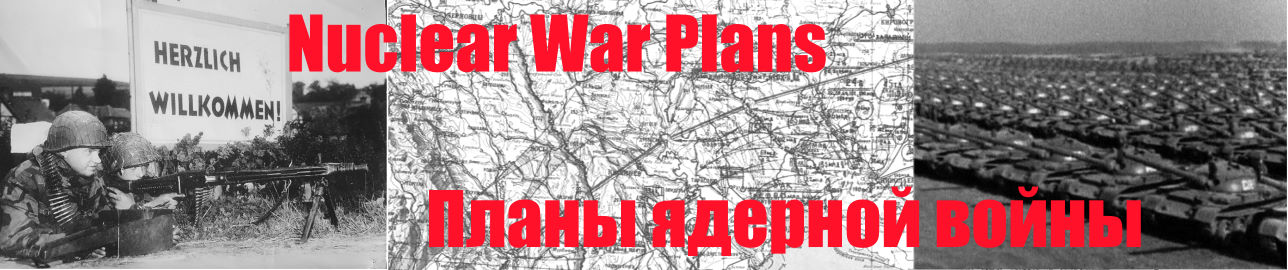
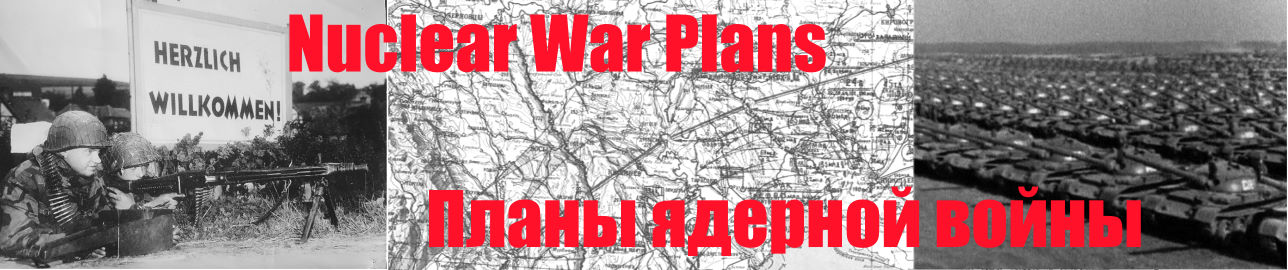
| Home page | Documents and materials | Library | Author's books | Contacts |
| Главная страница | Документы и материалы | Библиотека | Книги автора | Контакты |
В обывательском представлении войсковые манёвры выглядят «почти как война». Этому поспособствовали телерепортажи с учений и известные советские фильмы, где были «разрешены все приёмы, кроме стрельбы боевыми», и «воевали» все — от командира до последнего пехотинца. В телерепортажах чаще всего демонстрировались тщательно срежиссированные эпизоды, ничем не уступавшие сценическому искусству. Тем не менее, учения оставались реальным испытанием на прочность и мерилом боевой и мобилизационной готовности войск.
Большие манёвры
До Великой Отечественной войны манёврами назывались только двусторонние войсковые учения. Проводились дивизионные, корпусные, армейские, окружные и всеармейские манёвры. В послевоенной практике большинство общевойсковых учений стали двусторонними, поэтому манёврами стали называть те из них, где задействовались органы управления и войска сразу нескольких округов (групп войск). Численность задействованных войск могла достигать 100 000 человек: «Днепр» в 1967, «Север» и «Неман» в 1968, «Двина» в 1970, «Юг» в 1971 году, «Весна-75», «Запад-81»…
В рамках обычной боевой подготовки войск на протяжении учебного года проводились общевойсковые тактические учения: ротные, батальонные, полковые, дивизионные и в отдельных случаях — корпусные. При этом учения дивизий в каждом округе (группе войск) старались проводить не реже двух раз в год (летом и зимой). Самыми крупными из общевойсковых тактических учений были совместные учения общевойсковых соединений с частями ВМФ и ВДВ. Как правило, это были фронтовые учения продолжительностью 5-9 суток, проводившееся ежегодно по плану округа (группы войск). Авиация в рамках таких мероприятий проводила собственные лётно-тактические учения по смежной тематике, иногда под собственным кодовым наименованием. Например, в июле 1975 года на фоне фронтового учения Одесского военного округа с привлечением сил Черноморского флота 5-я воздушная армия провела собственное учение «Опыт-75».
Организация и проведение такого учения требовала значительного напряжения сил и большого расхода материальных средств. Поэтому их не проводили в тот год, когда штабы и войска округа (группы войск) привлекались к оперативно-стратегическим мероприятиям в системе подготовки Объединённых вооружённых сил Варшавского договора (ОВС ВД). Наиболее крупными в ОВС ВД были оперативно-стратегические учения серии «Союз», проводившиеся один раз в два-три года поочерёдно на Западном и Юго-Западном ТВД. Так же поочерёдно на каждом ТВД один раз в два года проводились оперативно-стратегические учения с войсками ПВО серии «Гранит». По плану боевой подготовки Главнокомандующего ОВС ВД один раз в два-три года проводились учения фронтового уровня под кодовым наименованием «Щит». Ежегодно по плану совместных мероприятий ОВС ВД на территории стран, где дислоцировались группы советских войск, проводились оперативно-тактические учения типа «Дружба». К 1988 году их провели более 70.
С боевой стрельбой могли проводиться только тактические учения до дивизии включительно, так как эти участники либо отдельные элементы их боевых порядков ещё вмещались в существующие полигоны для обеспечения безопасного проведения стрельб. Вероятно, самый большой в Европе общевойсковой полигон был построен под болгарским городом Сливен в 60-х годах: по фронту — 35 км, в глубину — 110 км. Здесь проводился один из пяти боевых эпизодов оперативно-стратегических учений «Щит-82». В то же время обычный окружной полигон в Советской армии имел размеры 12-18 км по фронту и 20-25 км в глубину. Бóльшими были авиационные и ракетно-артиллерийские полигоны в Поволжье и Казахстане, но они не предназначались для общевойсковых учений. Крупнейший полигон НАТО в ФРГ (Берген-Хон) имел площадь всего 300 кв. км. Поэтому не только лётчики, но также ракетчики, артиллеристы и танкисты бундесвера направлялись на учения с боевой стрельбой за пределы ФРГ — на Крит, на Сардинию, в Португалию и даже в Канаду.

Немецкие танки в Канаде (база Шайло, провинция
Манитоба)
kdwupper.de
Для развёртывания на учении боевых порядков одной-двух дивизий требовалось временно изъять из сельского и лесного хозяйства огромные территории, а затем потратить немало средств и времени на рекультивацию и возмещение ущерба. Репортажи с учений в ФРГ времён Холодной войны полны картин, как танки случайно рушат частные домовладения и давят легковые автомобили. Советские войска тоже причиняли немалый ущерб, хотя об этом не принято говорить.

Издержки учений в густонаселённой местности. Учение
REFORGER-70
gettyimages.com

Инцидент во время учений Центральной группы войск в
Чехословакии, 1983 год
vhu.cz
Среди комплекта документов, разрабатываемых для проведения крупного учения, был и план мероприятий по обеспечению безопасности, особенно в населённых пунктах и на железнодорожных переездах, а также по сохранению государственного и колхозного имущества, посевов, лесов, лесонасаждений, личной собственности населения. По приказу министра обороны СССР все командующие объединениями в начале года своими приказами назначали на период обучения так называемые Потравочную комиссию и Инспекцию охраны природной среды. Так как пострадавшие гражданские лица и ведомства часто завышали размеры своего ущерба, то «потравочникам» надлежало выяснять его истинный размер и определять меры по возмещению. Как видно из приказа командующего 8-й танковой армией №88 от 10 апреля 1989 года «О назначении комиссии по потравам», иногда выяснение ущерба даже становилось одной из задач тактического учения:
«В период с 14 по 17 апреля 1989 года с войсковой частью 54210 (177-я ракетная бригада на оперативно-тактических ракетных комплексах 9К72 «Эльбрус» — прим. автора) проводится тактическое учение с целью определения ущерба, нанесённого народному хозяйству… Комиссии в ходе учения проверять районы расположения частей и подразделений, маршруты выдвижения с целью определения ущерба, нанесённого народному хозяйству, и определения виновных, вопросы восстановления ущерба согласовывать с местными советскими органами и руководителями предприятий (хозяйств).
О результатах работы комиссии докладывать руководителю учения ежедневно, по окончании учения составить акт».
Возникает закономерный вопрос: если возникало так много сложностей, то каким же образом проводились учения с развёртыванием целых армий?

Полевой смотр войск после учения «Запад-81»
Скриншот из кинофильма «Такой солдат непобедим» (1981)
Вид боевой техники, расставленной после учения на полевом смотре войск от горизонта и до горизонта, демонстрировал мощь и внушал уважение. Но как все эти армады передвигались на учениях и вели «боевые действия» друг против друга? Ответ прост: ни армии, ни фронты друг с другом не «воевали». Командиры и штабы не пребывали в нервном ожидании докладов из войск о развитии обстановки — на самом деле они мало зависели от событий в войсках, так как это были командно-штабные учения (КШУ). Впрочем, речь идёт о КШУ особого рода.
Обыватель представляет себе КШУ как игру генералов на штабных картах в тишине кабинетов. В самом деле, КШУ наряду со штабными тренировками, военными играми и рекогносцировочными поездками были формой обучения командиров, штабов, начальников родов войск, специальных войск и служб управления войсками. Однако КШУ проводились не только на картах, но также на местности, на местности со средствами связи, на местности с привлечением личного состава для обозначения своих войск и войск противника. Последняя форма КШУ обычно применялась в том случае, если учения были армейского или фронтового уровней.
Разумеется, на практике никто фронтовых группировок войск не создавал. Развёртывались полевые управления армий и фронтов с узлами связи, и на их штабных картах велись «сражения» на всём Европейском континенте с прилегающей акваторией Мирового океана. Это связано с тем, что замысел фронтовой операции выполнялся на фоне обстановки на одну-две ступени выше обучаемого объединения — то есть на уровне операции группы фронтов на ТВД (стратегическом направлении).
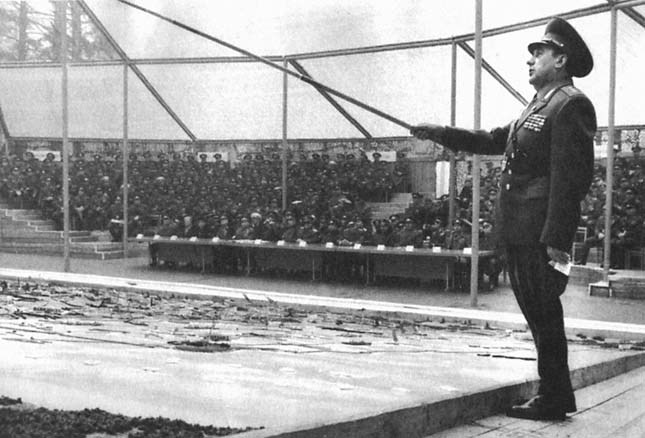
Командующий войсками фронта «Южных»
генерал-полковник С.И. Постников докладывает решение на операцию на манёврах
«Запад-81»
Постников С. В далеких гарнизонах. М.: POLYGON-press, 2004
После разработки органами управления всего комплекта документов на операцию следовал скачок в оперативном времени. Посредники предъявляли обучаемым штабам новую вводную с обстановкой, которая сложилась на определённый день операции. Исходя из этой обстановки обучаемые должны были в установленные сроки принять новое решение и разработать новый комплект документов. Такие вводные могли повторяться несколько раз, демонстрируя развитие операции (так называемое «наращивание обстановки»).

На манёврах «Запад-81». Уточнение решения
командованием фронта «Южных» (слева направо): генералы И.С. Медников, В.М.
Кожбахтеев, С.И. Постников и П.Н. Масалитин
Постников С. В далеких гарнизонах. М.: POLYGON-press, 2004
Всё это время войска жили в своей параллельной реальности. В соответствии с планом учения определялось от двух-трёх до пяти-шести боевых эпизодов, которые должны были реально проводиться на отдельных полигонах. Например, на манёврах с участием нескольких объединений по теме «Подготовка и ведение наступательной операции фронта на Приморском направлении с высадкой морского и воздушного десантов в условиях применения обычных средств поражения и переход к применению ядерного оружия» речь идёт о КШУ, в рамках которого также проводятся несколько отдельных тактических учений (боевых эпизодов) по некоторым этапам этой операции. Заранее определялись несколько полигонов, на которых создавалась группировка войск (от полка до дивизии с подразделениями и частями усиления). Эти войска на своём полигоне «натаскивались» на решение конкретной боевой задачи и потом демонстрировали это на учении перед высоким начальством и телекамерами. В целях безопасности никакие элементы случайности или соревновательности в развитии обстановки на полигоне не допускались. Всё должно было идти по заранее утверждённому плану. Те, кто помнят грандиозные манёвры «Запад-81», могут знать, что пока органы управления на картах развивали наступление на Приморском направлении с овладением территориями ФРГ, Дании и зоной Датских проливов, на нескольких полигонах последовательно проводились отдельные тактические учения:
· первый боевой эпизод в Дретуньском учебном центре Белорусского военного округа (БВО) под Полоцком. Демонстрировались прорыв подготовленной обороны противника и ввод в сражение оперативно-манёвренной группы фронта;
· второй эпизод на полигоне под Минском — в тылу противника высаживался оперативный воздушный десант;
· третий эпизод — морской десант на полигоне Хмелевка под Калининградом;
· четвёртый эпизод — полевой смотр под Минском.
В ходе манёвров была развёрнута до полного штата 28-я общевойсковая армия БВО. На полигоны вывели 6 дивизий и 6 отдельных бригад. Кроме того, было задействовано множество частей специальных войск. Так, в Гродно на базе 557-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 28-й армии размещались кадрированные инженерно-сапёрная бригада, инженерно-технический полк, армейский инженерный склад, отдельная ремонтная рота (инженерной техники) и дорожно-комендантский батальон тыла армии на военное время. После принятия приписного состава и техники из запаса через свои пункты приёма они провели сколачивание подразделений, совершили марш 650 км в Витебскую область для участия в «Западе-81» и провели большую работу по инженерной подготовке манёвров. Так, армейский инженерно-технический полк выполнил задачи по оборудованию командного пункта, передового и тылового пунктов управления армии. С передового пункта на манёврах работал министр обороны СССР маршал Д.Ф. Устинов с представителями Генштаба.
Флот в рамках «Запада-81» проводил несколько своих тактических учений по отработке:
· перевода сил флота в полную боевую готовность с учебными целями;
· развёртывания основной и резервной систем боевого управления силами флота;
· планирования и подготовки операции флота, выработки замысла на операцию на ЦБУ КП флота;
· воздушно-морской десантной операции (бой за высадку морского десанта на полигоне Хмелевка);
· действий отряда оперативного прикрытия десанта с выполнением ракетных стрельб и атакой корабельной авиации с тяжёлого авианесущего крейсера «Киев» по морским целям.
По соображениям безопасности и экономии на один полигон редко выводили больше, чем одну дивизию. Остальные соединения на учении лишь «обозначались» своими штабами и оперативными группами. Если реально задействовалось больше войск, чем мог вместить полигон (как на «Западе-81»), то временно изымались из хозяйственного оборота колхозные земли. Поэтому такие учения назначались на раннюю осень, когда на полях уже убрали урожай, но ещё достаточно тепло для массового размещения войск в палаточных лагерях. В этом случае большинство войск оценивалось по проведению мобилизационного развёртывания, маршей при выдвижении в назначенные районы, развёртыванию боевых порядков и готовности к действиям по предназначению. Избранные части задействовались по плану на полигоне с боевой стрельбой.
Несмотря на формальное задействование пяти-шести армий, реальный состав участников подобных манёвров обычно был невелик. Покажем это на примере учения в Группе советских войск в Германии, проведённого в марте 1988 года под руководством начальника Генштаба ВС СССР. Формально в нём участвовало пять армий, но реально для обозначения действий войск задействовались только три мотострелковых полка в полном составе (от трёх различных дивизий), управление одного танкового полка с одним танковым батальоном, 4 артиллерийских и 4 зенитно-ракетных дивизиона, 2 авиационных полка и 5 эскадрилий, 3 части разведки и РЭБ, 2 инженерные части, около 26 000 человек личного состава, 82 боевых самолёта и вертолёта, 5500 единиц военной техники, в том числе 58 танков, 430 орудий и миномётов.
Одновременно «воевали» 85 органов управления, в том числе 2 оперативных и 62 войсковых штаба. Пока на их штабных картах рисовали стрелки наступлений до Ла-Манша, в реальности проводилось всего несколько полковых тактических учений в границах имевшихся полигонов. Обычной считалась практика, когда от соединений ракетных войск и артиллерии большой мощности привлекалось лишь по одной установке, «обозначавшей» всё соединение, а звено или эскадрилья «представляли» весь свой авиационный полк.

Начальник войск связи заместитель начальника Генштаба ВС СССР маршал войск связи А.И. Белов на полевом узле связи командного пункта 13-й общевойсковой армии Прикарпатского военного округа на манёврах «Запад-81». Архив автора
Похожей была ситуация на коалиционных манёврах ОВС ВД. Так, в учениях типа «Дружба» участвовали не менее трёх союзных стран. При этом от армии, которая принимала учение в своей стране и руководила ими, обычно привлекались армейское управление, одна дивизия в полном составе, штабы или оперативные группы родов войск и специальных войск армейского комплекта с подразделениями обозначения, а также армейская и фронтовая авиация. От других союзных армий привлекались управление дивизии с одним полком в полном составе и средствами его усиления.



Строительство наблюдательного пункта на учении ОВС ВД и прибытие на него гостей. Архив автора
Полевой смотр по завершении «активной фазы» манёвров представлял собой самостоятельный боевой эпизод. Выставлялась боевая техника одного соединения и «частей обозначения» от союзников — этого вполне хватало, чтобы заставить боевыми машинами весь горизонт. Если от союзной армии приезжал только личный состав, то аналогичную технику ему выдавали на месте, и они временно наносили на броню свои знаки национальной принадлежности. Например, в учениях на территории ГДР болгарские части обычно использовали технику, предоставленную восточными немцами. Сами немцы тоже редко вывозили свои танки из страны, а получали их на месте от организаторов учений.
Сводные формирования
В ВС СССР порядок и сроки проведения всех этих мероприятий определялись «Организационно-методическими указаниями по оперативной и мобилизационной подготовке Вооружённых Сил СССР», которые утверждались на два года вперёд. Замыслы учений подавались на утверждение в Генштаб в начале года. Фактическая подготовка фронтовых (окружных) учений начиналась за 6-8 месяцев до их начала.
Органы управления готовили комплекты документов на учения в соответствии с директивой Генштаба ВС СССР №ДГШ-09-1977, в которой был утверждён двухтомник Военной академии Генерального штаба «Примерная методическая разработка фронтового командно-штабного учения с обозначенными войсками».
Если учение проводилось по окружному плану, то перечень привлекаемых к участию соединений и частей определялся командующим войсками округа в его приказе, на основании которого за подписью начальника штаба округа в войска направлялась директива. Если войска выводились на манёвры по плану Генштаба, то в задействованные округа направлялась соответствующая директива Генштаба.
Начальники организационно-мобилизационных управлений округов (групп войск) формировали на листах формата №12 (А-3) табличные «ведомости боевого и численного состава войск», привлекаемых к участию в манёврах. В них указывались соединения, части и учреждения, которые выводятся на учения, по какому штату они комплектуются, какой некомплект имеют в этой связи (в основном это касалось личного состава), а также из каких войсковых частей этот некомплект будет покрываться. Затем на утверждение командующему подавалась сводка укомплектованности, в которой имелся перечень войсковых частей-«доноров» с указанием что, сколько, кому и на какой период времени передаётся. После утверждения штаб округа рассылал директивы командирам частей и соединений с требованием направить соответствующие ресурсы к определённой дате в распоряжение командиров частей, выводимых на манёвры. Если в рамках учения проводились мероприятия по мобилизационному развёртыванию, то соответствующие «заказы» направлялись также в военные комиссариаты.
Затем в округах начиналось «стягивание» личного состава и техники из всех имевшихся войсковых частей для развёртывания по назначенным штатам тех из них, которым предстояло выйти на манёвры.
Так, в преддверии манёвров «Днепр» 12 июля 1967 года вышла директива Генштаба ВС СССР №13578, которой определялся перечень выводимых соединений и частей. На основании этой директивы командующие войсками округов обязывались к 30 июля того же года укомплектовать эти соединения и части за счёт остальных войск округов по штатам военного времени, полным штатам мирного времени либо специально прилагаемым штатным расчётам.

Полевой смотр войск после учений «Днепр»
Скриншот из кинофильма «Служу Советскому Союзу» (1968)
Основные группировки войск на манёврах создавались за счёт войск Белорусского и Прикарпатского военных округов. Но для обеспечения боевого эпизода, связанного с форсированием Днепра на оперативной территории КВО, привлекался целый ряд других соединений, частей и учреждений:
· от Киевского военного округа: 16-й понтонно-мостовой полк, 428-й и 836-й отдельные понтонно-мостовые батальоны, 719-й отдельный переправочно-десантный батальон, 5-й отдельный трубопроводный батальон, 48-й отдельный батальон химической защиты, 51-й отдельный гвардейский вертолётный полк с 746-м отдельным батальоном аэродромно-технического обслуживания, 20-й отдельный инженерный батальон оборудования пунктов управления, 105-я расчётно-аналитическая станция, 126-й отдельный гвардейский батальон дальней связи, 192-й отдельный радиорелейный батальон связи, 4-й отдельный полк правительственной связи КГБ и шесть сводных формирований связи;
· от Прибалтийского военного округа: 88-й отдельный дорожно-комендантский батальон и 9-й гвардейский инженерно-сапёрный полк;
· от Прикарпатского военного округа: 36-й отдельный дорожно-комендантский батальон и 592-й отдельный понтонно-мостовой батальон;
· от Одесского военного округа: 2-й понтонно-мостовой полк;
· от 15-й отдельной бригады связи РВГК (доукомплектовывалась за счёт войск округов, на территории которых дислоцировались её части): управление бригады, 448-й отдельный батальон дальней связи (за счёт БВО), 491-й и 530-й отдельные батальоны дальней связи (за счёт КВО), 658-й отдельный строительно-эксплуатационный батальон связи (за счёт Закавказского военного округа).

«В ходе учений». Архив автора
Всего в этой группировке было 8901 военнослужащий (992 офицера, 1752 сержанта, 6157 солдат), 1931 автомобиль (32 легковых, 677 грузовых, 1222 специальных), 8 БРДМ и БТР, ½ комплекта парка ППС, 5 комплектов ПМП, 26 ПТС, 20 ГСП, 20 БАТ, 16 К-61, 5 ТММ, 65 катеров, 8 бульдозеров, 21 МАВ и БАВ, 4 радиостанции большой, 56 средней и 264 малой мощности, 47 радиорелейных станций, 7 вертолётов Ми-8 и 30 вертолётов Ми-4.
Эти соединения выводились на манёвры практически как на войну — в полном составе. Например, в 16-м понтонно-мостовом полку выводилось 803 военнослужащих, а на охране части осталось только 89. Чтобы развернуть полк по штату военного времени (штат №12/600 литер «А») личный состав собрали «с бору по сосенке», отбирая лучших в других соединениях. Из донесения о численном составе 16-го полка по состоянию на 5 августа 1967 года:
|
Офицеры |
Сержанты |
Солдаты |
Всего |
|
|
По штату |
66 |
115 |
709 |
890 |
|
По списку |
60 |
218 (!) |
610 |
888 |
Показательно донесение начальника штаба Одесского военного округа генерал-лейтенанта Л.П. Казакова №16/0295 от 26 июля 1967 года, к которому прилагалась «Ведомость боевого и численного состава 2-го сводного понтонно-мостового полка, выводимого на манёвры в Киевском военном округе по директиве Генерального Штаба ВС СССР №13533 от 12.7.1967 года». Официальный сводный статус этого полка объясняется тем, что на его доукомплектование был направлен личный состав сразу двух полков окружного подчинения.
От 2-го понтонно-мостового полка были направлены: управление полка, два понтонно-мостовых батальона, инженерно-мостостроительная рота, взвод разведки, взвод связи, автотранспортный взвод, хозяйственный взвод, ремонтная мастерская, медпункт, клуб — 37 офицеров, 67 сержантов, 446 солдат, 298 автомобилей (в том числе 240 понтонов) и ½ комплекта ППС.
От 23-го понтонно-мостового полка были направлены: управление полка, два понтонно-мостовых батальона, инженерно-мостостроительная рота, хозяйственный взвод, ремонтная мастерская — 32 офицера, 75 сержантов, 443 солдата, 293 автомобиля (в том числе 240 понтонов) и ½ комплекта ППС.
Часть личного состава была изъята из 62-го понтонно-мостового полка, 644-го отдельного десантно-переправочного батальона и 56-го отдельного инженерно-сапёрного полка Одесского военного округа.
Заполнение солдатских должностей на время учений сержантами и курсантами было вполне обычной практикой, но «дивизии курсантов» и войсковые части сплошь из сержантов, как это описано в «Освободителе» Виктора Суворова, — это сильное преувеличение. «Сборная солянка» в развёрнутых соединениях, конечно, сопровождалась сопутствующим негативом, когда экипажи формировались из тех, кто был под рукой.
Например, в 1962 году для участия в учении «Дунай» на территории Венгрии начальник Генштаба приказал направить 530-й отдельный строительно-эксплуатационный батальон связи РВГК (в Веспрем), 489-й отдельный радиорелейный батальон КВО (на станцию Хаймашкер) и сводную группу ЗАС (на станцию Хаймашкер). Кроме того, из КВО в московский 35-й отдельный полк связи РВГК в связи с этим учением временно направлялись 20 телеграфистов ЗАС, 1 офицер-механик и 20 курсантов-механиков дальней связи. При этом 489-й радиорелейный батальон развернулся со штата №14/38 по штату №14/26. Его доукомплектовали личным составом, 15 автомобилями ГАЗ-63 и тремя ГАЗ-69А за счёт войск округа, а также тремя станциями Р-400М за счёт временного изъятия из запасов, предназначенных для новых формирований. Из числа положенных по штату 18 радиорелейных станций Р-400М реально имелось только 12, а некомплект заменили на две станции Р-402М и 4 станции Р-402. Все они относились ко 2-й категории. Экипажи радиорелейных станций были сформированы на 30% из неспециалистов радиорелейной связи. Тем не менее, в итоговом донесении объявили, что «батальон готов к выполнению поставленной задачи», и он направился в Венгрию, предварительно заменив номерные знаки на всём своём автотранспорте.
Условия, приближённые к боевым
Линейные общевойсковые соединения и части, укомплектованные «лучшими из лучших», выдвигались на полигоны и разучивали свои будущие роли в полевом спектакле «про войну». Такая отрепетированность действий, казалось бы, превращает учение в малополезную имитацию. Но на самом деле наличие соседей слева и справа, налаживание взаимодействия с ними и даже сам драйв от пришедшей в движение большой военной машины нельзя получить в ходе обычной боевой учёбы. Такой опыт получали только на крупных манёврах, поэтому участники любят вспоминать о них. Кроме того, иностранные военные наблюдатели не раз отмечали, насколько хорошо в Советской армии применяли средства имитации для придания реалистичности розыгрышу боевых действий.
Командование иногда вносило экспериментальные идеи по «повышению реализма» и дополнительному приближению условий учений к боевой обстановке. По итогам манёвров «Днепр-67» заместитель министра обороны СССР генерал армии И.Г. Павловский порекомендовал «широко применять бомбо-штурмовые удары самолётов в непосредственной близости от войск, вести стрельбу из пушек и танков в промежутках между боевыми порядками и через головы своих войск, применять на учениях боевые ручные гранаты, проводить полёты на низких высотах самолётов над войсками, «обкатку» войск танками». С высоты сегодняшнего дня можно сказать, что большинство подобных рекомендаций осталось на бумаге, так как противоречило правилам техники безопасности. Стремление минимизировать гибель и увечья людей достигалось за счёт повышения требовательности к командирам войсковых частей. В целом этот метод хорошо работал, хотя такая требовательность не всегда была справедливой по отношению к командирам. Автору достоверно известно только о двух чрезвычайных ситуациях на «Днепр-67», связанных со смертельными случаями.
Показателен пример Одесского военного округа (ОдВО). Как следует из «Доклада об итогах боевой и политической подготовки Краснознамённого Одесского военного округа за 1982 учебный год» №19/00379, в тот год в округе провели:
· одно фронтовое КШУ, одно КШУ на местности с 14-й гвардейской армией, одно КШУ с округом военного времени, одну совместную штабную тренировку на местности с управлениями 14-й армии и 32-го корпуса;
· 16 КШУ на местности с соединениями;
· одно корпусное оперативно-тактическое учение;
· 6 дивизионных тактических учений (в том числе одно с развёртыванием на учебные сборы приписного состава);
· 20 совместных мероприятий по совершенствованию системы управления ВВС, ПВО и ВМФ;
· участие в учениях «Центр-82» и «Щит-82»;
· 18 полковых тактических учений, в том числе 2 ночных, 4 с боевой стрельбой днём и ночью, 3 в период развёртывания на учебные сборы приписного состава, 1 по действиям в составе морского десанта совместно с силами Черноморского флота;
· 5 тактических учений ракетных войск с боевыми пусками 8 оперативно-тактических и 5 тактических ракет;
· учения с подвижными ракетно-техническими базами по практической подготовке ракет к боевым пускам;
· в окружном артиллерийском учебном центре — 1167 боевых артиллерийских стрельб и 68 боевых стрельб ПТУР;
· в ВВС округа — оперативно-тактическое учение со 119-й истребительной авиадивизией, 27 лётно-тактических учений (в том числе 7 с практическими бомбометаниями), всего — 2690 практических бомбометаний и 4150 боевых стрельб.
За этот же период в войсках округа имели место 315 происшествий и преступлений, погибло 86 человек, осуждено 259 человек. Как видим, при столь интенсивной боевой подготовке количество сопутствующих жертв было относительно невелико. Также заметим, что интенсивность боевой подготовки в «курортном» ОдВО не очень-то уступала передовым группам войск за границей.

Прибытие начальника ГШ Вооружённых сил СССР — первого заместителя Министра обороны СССР маршала Н.В. Огаркова и начальника ГО — заместителя Министра обороны СССР генерала армии А.Т. Алтунина на командный пункт 13-й общевойсковой армии ПрикВО в ходе учения, 1981 год. Архив автора
Большие манёвры были серьёзным экзаменом и для органов управления — сразу вскрывались недостатки как в оперативной подготовке, так и в элементарной образованности генералов и офицеров. В связи с этим происходила масса анекдотичных случаев. Как вспоминал бывший заместитель начальника штаба ОВС ВД генерал-лейтенант Е.И. Малашенко, министр обороны маршал Р.Я. Малиновский при заслушивании докладов участников учений требовал от командующих знания вооружённых сил НАТО и театра военных действий:
«Командующий Южной группой войск при докладе несколько раз повторил, что его войска будут наступать в направлении «Редстоун», показывая по карте район, где было написано это слово. Р.Я. Малиновский спросил: «А что такое «Редстоун»?» Тот ответил: «Крупный город». Министр сказал: «А я думал — это ракета…»
На разборе учений в ГСВГ начальник Генштаба ВС СССР маршал С.Ф. Ахромеев критиковал низкую штабную культуру:
«Нельзя не сказать о крайне неряшливом оформлении документов. Недопустимо размалёвывание рабочих карт. На учении имел место просто курьёзный случай. Начальник оперативного отдела штаба 11-й ТА для работы на местности привёз карту на рейках, которую вывесил в траншее. Вся карта закрашена. Ни населённых пунктов, ни местности, ничего там нельзя увидеть. Такие документы для боевой работы не нужны… К сожалению, получается так, что хуже всего карты у начальников штабов и начальников оперативных отделов».
Отметим, что под условным наименованием 11-й танковой армии на учении выступала 2-я гвардейская танковая армия — лучшие из лучших. Но кадровые выводы после таких историй были редким явлением.
«Образ врага» на учениях
Опыт показывает, что учебная «война» с обезличенным условным противником недостаточно мобилизует личный состав. Чтобы «образ врага» был более определённым, в американских войсках создавались специальные части и подразделения для обозначения противника. В 1980 году в восстановленном национальном учебном центре сухопутных войск США в Форт-Ирвин (штат Калифорния, пустыня Мохаве) на базе 6-го батальона 31-го пехотного полка 7-й пехотной дивизии было создано условное формирование «32-й гвардейский мотострелковый полк». В его состав входили два мотопехотных батальона, разведывательная и сапёрная роты, самоходно-артиллерийское и зенитное подразделения, подразделение РЭБ и химиков, применявших в ходе учений слезоточивый газ CS. При необходимости «полк» мог быть усилен за счёт других учебных заведений армии США двумя-тремя так называемыми мотострелковыми и сапёрной ротами.
Эти подразделения вели «боевые действия» в соответствии с советскими уставами и наставлениями, использовали некоторые образцы вооружения и форму одежды, принятые в армиях социалистических стран. Известно, что в составе «полка» имелись лёгкие танки, закамуфлированные под советскую технику.

Закамуфлированный под ЗСУ-23-4 американский лёгкий
танк Sheridan, Форт-Ирвин
topwar.ru
За 1982-1988 годы через двухсторонние военные учения в пустыне Мохаве прошло свыше 200 000 человек. При этом первые «бои» с «противником», применявшим непривычную советскую тактику, часто завершались неудачно для обучаемых американских подразделений. Это должно было служить стимулом к всестороннему изучению потенциального противника. В 7-м армейском корпусе армии США на территории ФРГ для аналогичной цели были созданы два подразделения, оснащённые различными боевыми машинами армий Варшавского договора. Программой боевой подготовки, утверждённой в корпусе, предусматривался так называемый «советский день» поочерёдно для каждой роты, когда военнослужащие знакомились с советским вооружением, проигрывали захват советскими войсками собственных казарм и выход к реке Рейн на соединение с подразделениями, обозначавшими «красных». На 1991 год планировалось создать подобные специальные центры боевой подготовки на американской базе в Хоэнфельсе (Бавария) и на континентальной территории США (штат Арканзас), но завершение Холодной войны прервало эти планы.



Техника вероятного противника в Советской армии. Архив автора
В Советской армии визуально могли представить себе противника только на учебных полях, где полковые умельцы сооружали макеты натовской боевой техники. Часто для этого использовали старые советские боевые машины. Лишь посвящённые могли знать, что, например, на Дретуньском полигоне в ходе манёвров «Запад-81» осуществлялся прорыв района обороны американской дивизии, а на учениях Одесского и Закавказского военных округов расстреливались специально сооружённые аналоги турецких укреплённых районов.
В остальном же для крупных манёвров существовало чёткое правило: при разработке замыслов и других документов военные стран Варшавского договора должны действовать согласно тактике и организации своих национальных армий, «не прибегая к созданию обстановки или обозначению противника за армии иностранных государств». Так поступали, исходя из политических соображений. Кроме того, с 1975 года на всех таких мероприятиях обязательно присутствовали иностранные военные наблюдатели, которым не следовало видеть лишнего.
Ещё одной проблемой был лимитированный расход моторесурсов и ГСМ, что вынуждало ограничивать масштабы манёвров, множество боевых задач упрощать или выполнять условно, а «противника» просто имитировать без привязки к реальности. Всё это ограничивало общевойсковые учения как способ розыгрыша возможных реальных боевых действий.
Временные формирования
Читатель может вспомнить, что были на учениях такие офицеры с нарукавными повязками – посредники – в функции которых как раз входило придание учениям реалистичности. Мол, они определяли «ты убит, а ты ранен». На самом деле посредники придавались войскам с задачами, характерными для обычных проверяющих. Зная тему учения, посредник оценивал готовность войск к выполнению их задач и затем само выполнение на всех этапах. В помощь посреднику придавался целый штат помощников, а также специальные временные формирования войск связи для обеспечения связи посредника при фронте со штабом руководства, с посредниками при армиях и для связи играющих штабов. Они действовали по-боевому, совершая суточные переходы по 400-500 км вместе с органами управления.

Колонна на марше, «Днепр-67». Архив автора
В частности, при подготовке к манёврам «Днепр» в Генеральном штабе были разработаны штатные расчёты таких временных формирований:
· сводный батальон связи старшего фронтового посредника;
· радиогруппа засекречивающей аппаратуры связи (ЗАС) посредника при управлении общевойсковой армии;
· радиогруппа ЗАС посредника при управлении воздушной армии;
· рота связи посредника при общевойсковой дивизии;
· батальон связи обеспечения имитации.
Они формировались в основном за счёт войск связи Киевского военного округа (КВО), так как войска связи Белорусского (БВО) и Прикарпатского (ПрикВО) военных округов тогда были задействованы по своему прямому назначению. Рассмотрим детально каждое из них.
Сводный батальон связи старшего фронтового посредника формировался за счёт 5-го отдельного полка связи окружного подчинения:
А) Управление (13 человек):
· командир батальона и два его заместителя;
· штаб (4 человека);
· партийно-политический аппарат (1 человек);
· техническая часть (2 человека);
· хозяйственная часть (3 человека).
Б) Основные подразделения: 1-й и 2-й батальоны, состоящие из радиорот.
В) Подразделения обслуживания:
· клуб;
· медпункт;
· мастерская по ремонту технического имущества;
· авторемонтная мастерская;
· хозяйственный взвод.
Г) Личный состав:
· офицеры — 53;
· сержанты — 113;
· солдаты — 278.
Итого — 444 военнослужащих.
Д) Средства связи:
· радиостанции Р-110 — 2;
· радиостанции Р-102 — 5;
· радиостанции Р-118 — 2;
· радиостанции Р-122 — 3;
· радиорелейные станции Р-405 — 4;
· различные аппаратные — 42.
Е) Автотранспорт:
· легковые автомобили — 3;
· грузовые автомобили — 22-24;
· спецмашины — 67.
За счёт 135-го отдельного полка связи авиации КВО формировалась радиогруппа ЗАС старшего посредника при 26-й воздушной армии БВО:
А) Управление:
· начальник группы;
· заместитель начальника группы.
Б) Основные подразделения:
· радиогруппа;
· телефонная станция ЗАС;
· телеграфная станция ЗАС;
· линейно-кабельное отделение.
В) Подразделения обслуживания:
· хозяйственный взвод;
· авторемонтная мастерская.
Г) Личный состав:
· офицеры — 7;
· сержанты — 22;
· солдаты — 77.
Итого — 106 военнослужащих.
Д) Средства связи:
· радиостанции Р-830, Р-820М — 4;
· радиостанция Р-839 — 1;
· радиостанция Р-824 — 1;
· радиорелейная станция Р-405 — 1;
· различные аппаратные — 11;
· кабель П-274 — 20 км.
Е) Автотранспорт:
· легковые автомобили — 1;
· грузовые автомобили — 4;
· спецмашины — 21.
Для старшего армейского посредника при каждой из задействованных на манёврах армий формировалась своя радиогруппа ЗАС. В частности, за счёт 30-го отдельного полка связи 1-й общевойсковой армии КВО формировалась радиогруппа ЗАС старшего посредника при 28-й общевойсковой армии БВО:
А) Управление:
· командир группы;
· заместители командира группы;
· штаб;
· партийно-политический аппарат;
· техническая часть;
· хозяйственная часть.
Б) Основные подразделения:
· радиогруппа ЗАС первого положения;
· радиогруппа ЗАС второго положения.
В) Подразделения обслуживания:
· хозяйственный взвод;
· мастерская по ремонту технического имущества;
· авторемонтная мастерская;
· медпункт.
Г) Личный состав:
· офицеры — 26;
· сержанты — 80;
· солдаты — 230.
Итого — 336 военнослужащих.
Д) Средства связи:
· радиостанция Р-110 — 1;
· радиостанции Р-102 — 5;
· радиостанции Р-122 — 2;
· радиостанции Р-118 — 4;
· радиостанции Р-125 — 2;
· аппаратные разные — 25;
· кабель П-270 — 50 км;
· кабель П-294 — 16 км.
Е) Автотранспорт:
· легковые автомобили — 2 (в том числе 1 для доставки почты);
· грузовые автомобили — 10;
· спецмашины — 50.
При каждой задействованной на манёврах общевойсковой дивизии имелся посредник, а при нём своя рота связи. Роты связи дивизионных посредников для прибывших на манёвры из Белоруссии 30-й и 120-й мотострелковых дивизий (мсд) формировались на базе войск соответственно 25-й и 81-й гвардейских мсд КВО. Штатный расчёт роты связи дивизионного посредника:
А) Организация:
· командир роты;
· старшина (командир хозяйственного отделения);
· 1-й радиовзвод;
· 2-й радиовзвод;
· отделение телефонной ЗАС;
· подвижный узел связи;
· хозяйственное отделение.
Б) Личный состав:
· офицеры — 6;
· сержанты — 28;
· солдаты — 58.
Итого — 92 военнослужащих.
В) Средства связи:
· радиостанции Р-125МТ — 7;
· радиостанции Р-118 — 2;
· радиорелейная станция Р-405 — 1;
· аппаратная ЗАС П-233ТМ — 1;
· аппаратная ЗАС 3-349 — 1;
· аппаратная ЗАС П-299 — 1;
· кабель П-275 — 6 км.
Г) Автотранспорт:
· легковые автомобили — 2;
· спецмашины — 13;
· кухня походная — 1.
За счёт 121-го отдельного гвардейского полка связи 6-й гвардейской танковой армии КВО формировались два сводных батальона связи имитации. Разведки армий НАТО пристально наблюдали за советскими учениями, поэтому параллельно с манёврами обязательно проводились мероприятия по противодействию средствам технической разведки противника. Эти сводные батальоны имитировали работу фронтового и армейских узлов связи, маскируя истинную радиосвязь между штабами объединений в ходе учений. В начале 80-х годов по заданию Генштаба и Главного штаба Сухопутных войск даже проводилась научно-исследовательская работа по теме «Определение основных демаскирующих признаков фронтовых (армейских) учений и разработка предложений по их скрытию или воспроизведению с целью дезинформации ИТР противника». Штатный расчёт отдельного сводного батальона связи имитации:
А) Управление:
· командир батальона;
· заместители командира батальона;
· штаб;
· партийно-политический аппарат;
· техническая часть;
· хозяйственная часть.
Б) Основные подразделения: 1-я, 2-я, 3-я роты связи.
В) Подразделения обслуживания:
· хозяйственный взвод;
· авторемонтная мастерская;
· медпункт.
Г) Личный состав:
· офицеры — 18;
· сержанты — 44;
· солдаты — 219.
Итого — 281 военнослужащий.
Д) Средства связи:
· радиостанции Р-118 — 3;
· радиостанции Р-125 — 4;
· радиостанции Р-105 — 70;
· КШМ БТР-50ПУ — 1;
· аппаратные ЗАС П-233Т — 2;
· аппаратные ЗАС 3-349 — 2;
· аппаратные ЗАС П-299 — 3;
· мастерская связи М-3М — 1;
· кабель — 180 км.
Е) Автотранспорт:
· легковые автомобили — 1;
· грузовые автомобили — 14;
· спецмашины — 21.
Временные формирования c особыми задачами
На большие манёвры всегда прибывало множество гостей: руководители главных управлений Генерального штаба и центральных управлений Министерства обороны, командующие округами и флотами с других ТВД, большие группы слушателей военных академий, партийно-политическое руководство страны и союзных республик, а также областей и краёв, на территории которых проходят манёвры, журналисты. Всегда было много иностранных гостей. Например, на учении «Щит-82» кроме министров обороны стран-участниц Варшавского договора присутствовали руководители военных ведомств Кубы, Вьетнама, Монголии, Лаоса и Кампучии с делегациями по 3-5 человек. С 1975 года добавились обязательные иностранные военные наблюдатели, если в учении задействовалось более 25 000 человек. Всю эту публику требовалось встретить и перемещать с полигона на полигон вслед за развитием событий учебной «войны». Для этого создавались особые формирования, как, например, сводный автомобильный батальон по обеспечению штаба руководства манёврами.



Служебный автотранспорт 50-80-х годов. Фотографии из частных коллекций
Перед манёврами «Днепр» начальник Генштаба ВС СССР направил в КВО директиву №ГОУ/2/13891 от 18 июня 1967 года с требованием сформировать сводный батальон легковых автомобилей для обеспечения руководства по прилагаемому штатному расчёту:
А) Управление:
· командир батальона — 1;
· заместители командира батальона — 3;
· начальник штаба батальона — 1;
· начальник продовольственного снабжения — 1;
· старший писарь — 1;
· диспетчеры — 3.
Б) Основные подразделения: три автороты по два автовзвода в каждом (всего — 115 водителей).
В) Подразделения обслуживания:
· мастерская технического обслуживания;
· авторемонтная мастерская ПАРМ-1;
· контрольно-технический пункт;
· хозяйственный взвод;
· медпункт.
Г) Личный состав — 196 человек.
Д) Автомобили для обслуживания руководства:
· «Чайка», ГАЗ-12 — 5;
· «Волга» — 50;
· ГАЗ-69А — 50;
· пассажирские автобусы ПАЗ-652 — 5.
Во исполнение директивы Генштаба командующий войсками КВО генерал-полковник В.Г. Куликов приказом №1/156208 от 23 августа 1967 года потребовал сформировать такой батальон к 1 сентября в Чернигове при управлении 1-й общевойсковой армии. Всего в батальоне должно было иметься 125 автомобилей всех марок, в том числе для обслуживания руководства — 105 легковых машин и 5 автобусов. Чтобы выполнить приказ, в округе изымали водителей и служебные легковые машины из всех войск и учреждений, даже из военкоматов, военных училищ и гарнизонных поликлиник. Тем не менее, этого было недостаточно, и часть машин («Чайки», «Волги», все автобусы) с водителями прибыли из Москвы — из гаража Министерства обороны.
15 сентября 1967 года вышла директива Генштаба ВС СССР №ГОУ/2/10321, которой предписывалось создать временное автомобильное подразделение для обеспечения работы кинооператоров по съёмкам документальных фильмов на войсковом учении. В приказе генерала В.Г. Куликова №1/156365 к начальнику автобронетанковой службы округа требовалось выделить для этой цели из резерва 25 автомобилей, в том числе:
· из Киевского танко-технического училища — 13 ГАЗ-66 и 4 ГАЗ-69;
· из 427-го отдельного механизированного полка гражданской обороны (Киев) — 7 ГАЗ-66 и 1 ГАЗ-69.
Коменданту окружного управления ставилась задача подобрать 17 наиболее опытных водителей.
Документальный фильм «Служу Советскому Союзу», снятый на манёврах «Днепр», стал возможен благодаря этому временному автомобильному формированию, перевозившему «киношников». Съёмки с воздуха обеспечивали лётчики 51-го отдельного гвардейского вертолётного полка.
Обилие различной военной техники на дорогах требовало надёжной организации управления движением. Штатных сил военной автомобильной инспекции (ВАИ) было недостаточно, поэтому привлекли личный состав мотострелковых соединений КВО, которые не участвовали в манёврах. Согласно директивам штаба округа №М/1/15462 и №1/155762 бóльшая часть личного состава 229-го гвардейского мотострелкового полка 72-й гвардейской мотострелковой дивизии (город Белая Церковь) была собрана во втором батальоне (кроме 9-й стрелковой роты из состава третьего батальона, за счёт которой содержалась окружная спортивная рота в Киеве). Их подготовили для несения дорожно-комендантской службы и службы регулирования с привлечением одной стрелковой роты на мотоциклах и остальных подразделений на штатном транспорте.
Развёрнутые на дорогах контрольно-диспетчерские пункты обладали функциями оказания всесторонней помощи войсковым колоннам: регулировочный пост, пункт выдачи питания, выездной медпункт и пункт технической помощи. Для этого использовались возможности той же 72-й гвардейской мсд, а также других соединений и частей округа, не привлекавшихся к участию в «боевых действиях».
Размещение и питание высоких гостей обеспечивалось за счет принимающего округа силами «Военторга», который присылал все необходимое вплоть до дефицитных продуктов питания, поваров и официантов. Распоряжения и сметы, касающиеся этой темы, не относятся к документам постоянного хранения, поэтому в большинстве уничтожены. Но те, что сохранились, представляют собой еще один малоизвестный аспект жизни Советской армии.
Прибытие начальника ГРУ ГШ Вооружённых сил СССР генерала армии П.И. Ивашутина, первого секретаря Житомирского обкома Коммунистической партии УССР В.М. Кавуна и командующего войсками ПрикВО генерал-полковника В.А. Беликова на командный пункт 13-й общевойсковой армии ПрикВО в ходе учения, 1981 год. Архив автора
Несмотря на все ограничения, большие манёвры всегда были важным событием в жизни войск. Уже в ХІХ веке вошло в практику чеканить памятные медали и нагрудные знаки для участников этих событий. Прижилась эта традиция и в армиях Варшавского договора.

Памятные знаки участникам учений из частных коллекций
Если отличившиеся военнослужащие рассчитывали на государственные награды или грамоты, прилагавшиеся к благодарности в приказе командующего, то остальные могли получить памятную открытку за подписью командира своей части.
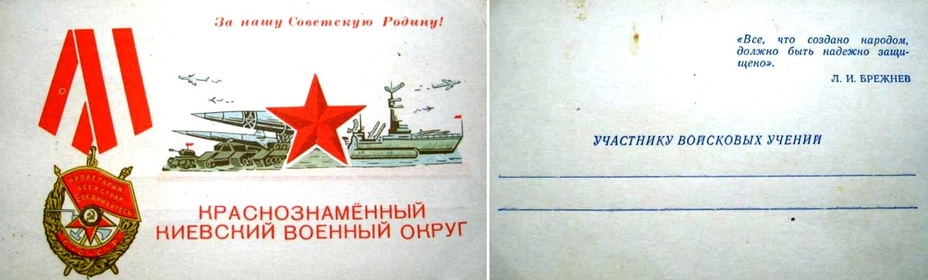
Бланк памятной открытки участнику учения в Киевском военном округе
Государство старалось запечатлеть память об учениях. Во-первых, это достигалось благодаря кинофильмам, снятым кинодокументалистами в процессе событий. Решения об этом иногда принимались даже не в Министерстве обороны, а на уровне Центрального комитета партии. Во-вторых, силами Воениздата и политических управлений военных округов выпускались пропагандистские ведомственные издания. При этом книги о совместных учениях Варшавского договора успевали издать ещё до окончания самих учений. Основной макет книги готовился заранее, и только в последний момент его дополняли «свежими» фотографиями — как правило, это были снимки руководителей учений, так как именно им вручались первые экземпляры с дарственными надписями.
Традиция памятных сувениров на манёврах действует и сейчас, так как следующим по важности событием в жизни войск является сама война.
Источники и литература:
1. ГДА МОУ. — Ф. 4235. — Оп. 4ТВ. — Д. 2; Ф. 40. — Оп. 17291с. — Д. 15, 22; Ф. 5688. — Оп. А1П. — Д. 239. — Т. 1 (Отчеты, доклады и справки об итогах и состоянии боевой подготовки Управления боевой подготовки ОдВО и др.); Ф. 2492. — Оп. 6389с. — Д. 4, 7 (Материалы по спецоргмероприятиям по линии Главного штаба Сухопутных войск).
2. Малашенко Е. Вспоминая службу в армии. М.: Редакционно-издательский центр Генерального штаба ВС РФ, 2003.
3. Сайчук Н. Ядерная война в Южной Европе. Обзор оперативно-стратегического планирования НАТО и Варшавского Договора. Часть первая: Балканское направление и зона Черноморских проливов. К., 2021.
4. Сайчук Н. Войска Киевского военного округа по документам Организационно-мобилизационного управления. К., 2025.
5. Гареев М. Тактические учения и маневры. Исторический очерк. М.: Воениздат, 1977.
6. Гареев М. Общевойсковые учения. М.: Воениздат, 1983.
7. Полевая выучка / ред. Павловский И. М.: Воениздат, 1982.
8. Зарубежное военное обозрение. 1989, №5.
Н.Сайчук